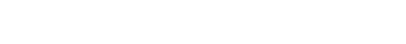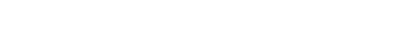Таурогенская конвенция и Пруссия поднимается против Наполеона
Война с Наполеоном до перемирия
Реакция мировых держав на события в России. Последствия
Мы привыкли представлять себе историю человечества в виде большой драмы, сцены и образы которой чередуются быстро перед нами, в известной, для всех очевидной связи причины и следствия: поэтому мы можем себе вообразить, что когда в декабре 1812 года закончился один акт этой поразительной драмы и занавес опустился над обильной жатвой смерти на снежных полях России, то при следующем подъеме занавеса сцена должна была быстро измениться, и Европа должна была бы предстать перед нами в разгаре восстания против всемирного наполеоновского владычества, в разгаре приготовлений к освобождению. Однако дело, в действительности, никак не могло пойти так скоро, потому что много было разнородных препятствий к его осуществлению. Жизнь текла тогда не так быстро, как течет теперь, когда мы привыкли о каждом важном событии узнавать во всех концах мира через несколько минут, даже секунд после его свершения, и эта быстрота сообщения приводит к столь же быстрым откликам, вызываемым событиями. Не то было тогда — тогда не трудно было всем отвести глаза и лживыми бюллетенями прикрыть тягостное и даже отчаянное положение, в которое был поставлен Наполеон походом в Россию. В правящих кругах уже с первых чисел ноября были получены кое-какие более или менее верные сведения: русский агент, специально посланный в Вену, открыл тамошнему правительству истинное положение дел. Что же касается большинства публики, то, хотя она и была встревожена разными неопределенными слухами и даже явным отсутствием более подробных известий, однако же она впервые уяснила себе истину только тогда, когда узнала, что император Наполеон 15 декабря прибыл неожиданно в Дрезден и, не остановившись здесь, проехал в Париж. И только весьма постепенно все стали узнавать о подробностях катастрофы — и все же были еще весьма далеки от сознания ужаса всего совершившегося.
Австрия
К Австрии еще в ноябре 1812 года было обращено со стороны русского правительства требование — порвать связь с Наполеоном, и прусский посол при венском дворе, Гумбольдт, со своей стороны также получивший подробные сведения, настаивал на том же. Казалось бы, что для правителя, пережившего то, что со времен Кампо-Формийского договора, со времен Ульма, Аустерлица и Ваграма пережил император Франц Иосиф, было бы весьма естественным в данную минуту пожелать возвращения всего утраченного и возможно большего ограничения столь вредного для всей Европы могущества Наполеонова, а о тех опасностях, какие со временем могли грозить со стороны России или Пруссии, на время отложить всякие помыслы. Но в том-то и беда, что душа таких людей, как император Франц Иосиф и его правая рука, граф Меттерних, недоступна никакому мужественному настроению, никакому сознанию государственного достоинства. Они видели, конечно, что их положение улучшается: им было ясно, что теперь союз с Австрией приобретает большую цену и что эта цена должна еще более возрасти, если хватит ума и терпения на выжидание. И вот потому именно Австрия удовольствовалась лишь тем, что Шварценбергу, командовавшему австрийским вспомогательным корпусом в России, приказано было перед русскими войсками отступать все далее и далее, очистить даже и Варшаву, и, весьма некстати, отпустить состоявших у него под командой саксонцев на родину.
Пруссия. Йорк фон Вартенбург
Гораздо более затруднительным, но вместе с тем более обнадеживающим было положение Пруссии. Однако и здесь правительство и король, и все его окружающие, не слишком скоро пришли к определенному решению: положение Пруссии после Тильзитского мира было такое, что для этого государства оставался только один выбор — или полная победа, или полная гибель. В Берлине, на виду у французских оккупационных войск, в отдалении от места действия событии и их потрясающего впечатления, долгое время не могли освоиться с новым положением дел. Надо было, чтобы какой-нибудь смельчак подал другим пример — такой смельчак и нашелся в лице командира прусского вспомогательного корпуса, подчиненного французскому главнокомандующему, — генерал Ганс Давид Людвиг фон Йорк. Он родился в 1759 году; отец его был офицером при Фридрихе Великом и принимал участие во всех его походах. И в сыне его, человеке образованном и бывалом, рано явилась охота к военной службе. Он был одним из немногих, с честью носивших прусский мундир во время несчастных войн Пруссии с Наполеоном. Строгий, твердый, проникнутый сознанием патриотического и военного долга, он всеми силами заботился о том, чтобы не уронить честь Пруссии в том тягостном положении, в которое он был поставлен как командир прусского вспомогательного корпуса, подчиненного французскому главнокомандующему Макдональду. Когда же великая катастрофа совершилась и ее влияние стало ощутительно и на корпусе Макдональда, Йорк увидел себя в положении человека, к которому одновременно с двух сторон обращались с совершенно противоположными предложениями и требованиями, Французы, до того времени относившиеся к нему не особенно милостиво, вдруг перешли к самой дружеской предупредительности: он получил в конце ноября 1812 года офицерский крест Почетного Легиона; затем награду в 20 000 фр.; ему дали понять, что в будущем его ожидает командование отдельным отрядом и маршальский жезл — для французов в высшей степени было важно сохранить неприкосновенной в Курляндии сплоченную воинскую силу, корпус Макдональда, численность которого достигала 27 000 чел. Около того же времени и со стороны России были сделаны Йорку первые предложения — порвать связь с французами и перейти на сторону русских, интересы коих были вполне тождественны с прусскими. Для того, чтобы ознакомиться ближе с положением дел, Йорк отправил лейтенанта Капица в Вильну, и тот, возвратившись к нему 8 декабря, выяснил полную картину гибели «Великой Армии». Затем с одной стороны, Дибич, начальствовавший русским отрядом, наступавшим на пруссаков, отходивших к Кенигсбергу, делал ему свои предложения, поддерживаемые немецкими патриотами, находившимися в русском войске, графом Дона, Клаузевицом и т. д., — и эти предложения, которым он и без того сочувствовал, представлялись ему весьма привлекательными. С другой стороны, из Берлина не приходило никаких распоряжений, и все его просьбы относительно инструкций оставались без ответа; а он, как истый солдат, не решался по собственной своей воле сделать самостоятельно такой шаг, который должен был иметь не столько военное, сколько политическое значение. Как бы для того, чтобы ускорить его решение, последовал ему от Макдональда приказ: как можно скорее двинуться к Тильзиту, причем ему надо было обязательно пробиться через русские войска… И вот — он принял наконец решение.

Граф Йорк фон Вартенбург. Гравюра работы Л. Якоби с портрета кисти В. Вольце
Таурогенская конвенция
30 декабря, на мельнице, близ Таурогена, он заключил с генералом Дибичем, в присутствии Дона и Клаузевица, конвенцию и этот договор был первым шагом к разрыву связи, установившейся между прусской и французской армиями. По Таурогенской конвенции прусский вспомогательный корпус должен был остаться нейтральным и занимать территорию между Мемелем, Тильзитом и Гаффом, пока не получено будет иное распоряжение от короля: в случае же, если бы король приказал вновь присоединиться к французам, то корпус обязывался в течение 2 месяцев не участвовать в военных действиях против России. Значение подобного дополнительного условия было всем вполне понятно. Однако Прусское государство никак не могло так быстро на что-нибудь решиться: король прусский, конечно, не мог позабыть того, что 6000 французов, под командой сурового Ожеро, недалеко от его резиденции, занимают Берлин гарнизоном, и потому отнесся с порицанием к поступку Йорка, приказав предать его военному суду; и государственный канцлер, узнав о конвенции и передавая о ней французскому послу, старался выказать себя негодующим и озабоченным. Однако так как русские не пропустили через свои линии того офицера, который вез немилостивый королевский указ, то Йорк не получил о нем никакого официального уведомления и на время мог его вполне игнорировать. Его положение было более чем незавидно: он ставил на карту не только свою жизнь, но и честь, и честь вверенной ему части — и настроен был, конечно, весьма мрачно.
Но решительный шаг Йорка уже нашел себе отголосок в провинции и вызвал горячее одушевление. Дело не ограничилось только одной капитуляцией — Йорку вскоре удалось даже пополнить свой корпус. 21 января в Кенигсберг явился барон фон Штейн, в качестве уполномоченного от императора Александра, и, при содействии восточно-прусских патриотов — Шена, Дона, Ауерсвальда, — сделан был весьма важный по своим последствиям шаг: генеральный сейм восточно-прусской провинции был созван в Кенигсберге на 5 февраля 1813 года. Сейм собирался теперь не по королевскому приказу или соизволению: непосредственное чувство национальной гордости, сознание того, что дело идет о будущности государства, а именно нравственное побуждение (тот «категорический императив», о котором говорит Эммануил Кант) — вот во имя чего собрались эти люди. Это было настоящее собрание представителей народа и обсуждало оно не какие-нибудь избитые официальные темы, а такое решение, которое не мог не одобрить король, потому что оно было лучшим выражением верности ему народа. На этом сейме объявлено было о поголовном вооружении — о призыве к оружию ландштурма и ландвера, к которому тотчас же и приступили. Эрнст Мориц Арнд, прибывший на сейм вместе с Штейном, заговорил даже с горячим одушевлением о «священной германской реке», которую предстояло отвоевать у французов. И все население провинции не отстало от своих представителей в самоотверженном одушевлении. Несмотря на то, что эта провинция в последнюю войну пострадала более всех других, решено было, что из каждых 26 человек один должен идти под ружье. Шаг этот был очень смелым — и в высших политических сферах на него откликнулись не скоро. Английское правительство не воспользовалось этим в высшей степени благоприятным моментом с той поспешностью и настойчивостью, какие в данном случае были необходимы; еще менее можно было ожидать от другого союзника России — шведского кронпринца. Всюду, как обычно бывает в подобных случаях, проявилось желание рассчитывать и взвешивать шансы и выгоды, обсуждать обоюдные интересы. Спорили о том, в какой степени твердо будет выдержано императором Александром его решение — перенести войну в Германию, и долго ли он будет в состоянии ее выносить? Толковали с грустью и о том, что половина Германии еще — князья Рейнского союза и их подданные — привязана позорными узами к наполеоновской государственной системе; но более всего горевали, что общее одушевление не находило себе поддержки — в подтверждении и согласии самого короля.

Александр I, император Всероссийский

Эрнст Мориц Арнд. Гравюра с портрета 1817 г.
Король. Волнение нарастает
Едва ли можно порицать Фридриха Вильгельма за то, что он не сразу поддался общему увлечению и не сразу воспользовался благоприятными обстоятельствами: он сознавал ту ответственность, какую он несет на себе как король. Первоначально старались показать вид, как будто хотят держаться союза с Францией, и Гарденберг разыграл эту роль, навязанную ему обстоятельствами, с большим совершенством. Испытанный друг французов, тот самый князь Гацфельд, по отношению к которому Наполеон в 1807 году так театрально выказал свое великодушие, отправился (в январе) в Париж, между тем как другое уполномоченное лицо было тайно отправлено в русскую главную квартиру для переговоров с царем о заключении оборонительного и наступательного союза. Решительным шагом со стороны короля было уже и то, что он покинул Потсдам и переселился в Бреславль, где его личность была обеспечена от дерзкого насилия, которого не трудно было в данных условиях ожидать от французов; можно даже удивляться тому, что Наполеон не отдал приказания овладеть особой короля. В Бреславле король почувствовал около себя иную атмосферу и тотчас поддался общему воинственному и патриотическому одушевлению своего народа: 3 и 9 февраля появились королевские указы о всеобщей воинской повинности, и в первом из них говорилось о необходимости образования вольных егерских отрядов. Это воззвание произвело такое действие, какого и ожидать было невозможно: правительственные коллегии, университеты, высшие классы гимназий — все это опустело, где наполовину, а где и совсем, потому что ученики, студенты и чиновники бросились в ряды волонтеров; со всех сторон сходились люди всех возрастов и самых разнообразных призваний, и поступили в егерские отряды; отовсюду стекались и деньги на их обмундирование и вооружение; несколько недель спустя пришлось даже предпринять шаги к тому, чтобы умерить общий воинственный пыл, так как по многим отраслям начинал ощущаться недостаток в людях даже и для самонужнейших занятий. Одушевление достигло высшего предела и влияние его стало быстро распространяться во все стороны, хотя единству действий в значительной степени препятствовало отсутствие сплоченности, общности в народе, который еще не составлял цельной германской нации. И сам король прусский, так горько поплатившийся за свои прежние политические увлечения и порывы, долго не мог освоиться с тем народным движением, которое вокруг него совершалось. Наконец, 27 февраля прибыл в Бреславль Штейн с поручением от императора российского; 28 февраля был подписан Шарнгорстом Калишский договор, по которому император российский и король прусский вступали в тесный союз на защиту европейской независимости. Договором не допускались никакие частные съезды для переговоров и никакие сепаратные заключения мира; союз заключен был оборонительный и наступательный; основным условием договора являлось восстановление Пруссии в ее пределах до-наполеоновских войн: для выполнения целей, положенных в основу договора, Россия обязалась поставить 150 000, а Пруссия 80 000 чел. линейных войск, не считая ландвера и гарнизонных войск или того, что будет выставлено патриотизмом самого народа. Заключение этого трактата было действительно великим и важным политическим шагом, хотя многие недальновидные и близорукие люди и были им недовольны; важно было то, что этим трактатом полагалось начало «борьбы насмерть» с Наполеоном — борьбы беспощадной, и которая должна была неизбежно окончиться падением наполеоновского деспотизма и восстановлением того течения европейской жизни, которое должно было привести к установлению национализма как главного принципа существования современной нам Европы. Последний призрак величавой объединяющей Римской империи должен был исчезнуть с лица земли!..

Фридрих-Вильгельм III. Гравюра работы Л. Бухгорна с портрета кисти Герарда
Россия и Пруссия. Калишский союз
Кстати, заметим здесь, что в новейшее время некоторые из немецких писателей стараются ослабить значение России и императора Александра в деле освобождения Германии. Но это опровергается уже самым характером движения германского народа и его подъемом духа против Наполеона, постепенно возраставшим по мере наступления русской армии к Висле, к Одеру и т. д. — наступления, которое производилось безостановочно, начиная с 9 января 1813 года, т. е. со дня выступления русской армии из Вильны. Не следует забывать, что подъем духа в Германии был делом частных усилий народа, и прежде всего прусского, который в данном случае не шел рука об руку со своим правительством, а опирался именно на ту мощную русскую помощь, которая явилась для него надежной опорой в это тягостное время… Прусское правительство примкнуло к народу значительно позже, когда уже частные усилия сгруппировались и объединились около наступающей русской армии — и привели к всеобщему восстанию Германии. Совершенно справедливо восклицает один из беспристрастных немецких историков: «Нет, и сто раз нет! Без Александра не было бы войны 1813 года!».[15]
Народное восстание
Калишский договор получил некоторые дополнения в виде особого условия, подписанного в Бреславле Штейном, Нессельроде, Гарденбергом и Шарнгорстом; в этом дополнительном условии, которое было уже прямо рассчитано на восстание всей Германии, определился состав центрального правительственного совета, который должен был принять на себя временное управление в областях, подлежащих оккупации союзного войска, и в них изыскивать вспомогательные источники для поддержки общего дела. В этом смысле весьма любопытным и характерным представляется нам современное событиям письмо Штейна к графу Мюнстеру, государственному деятелю, который, хотя и не уклонялся от общего патриотического настроения, однако все же пытался смотреть на дело глазами ганноверца и взвешивать его шансы с точки зрения чисто ганноверских интересов. «Мне, в данную минуту высокого подъема народного духа, — так писал Штейн к Мюнстеру, — решительно нет никакого дела до каких бы то ни было династий: все они представляются мне не более, как орудиями. Мое желание одно: видеть Германию великой и сильной, дабы она вновь могла достигнуть самостоятельности, независимости и отстоять свою национальность, а также обеспечить свое положение между Францией и Россией». Тем же духом веет и в воззвании короля «К моему народу» от 17 марта, в котором ничто не забыто, ничто не украшено и не преувеличено и впервые просто, но красноречиво указывается на общность, почти на тождественность интересов Пруссии и Германии. Воззвание обращается к «бранденбургцам, пруссакам, силезцам, померанцам, литовцам»: король напоминает им о великих моментах прусской истории, о великом курфюрсте, о Фридрихе Великом, подводит крупные итоги пережитого прошлого, указывает на богатые плоды, которыми увенчались труды предшествующих поколений — в свободе совести, в славе, в независимости, в торговле, в промыслах, в науке. «Теперь нам предстоит последняя решительная борьба»… «и нет иного исхода, как почетный мир или гибель со славой»… «а потому мы должны с уверенностью положиться на то, что Бог и наша твердая решимость доставят нам победу в борьбе за правое дело». И не только коренные, прирожденные германцы говорили языком подобного одушевления и выспреннего строя: русский полководец Витгенштейн обращался к вестфальцам и саксонцам со следующим энергичным воззванием: «Саксонцы! Германцы! Наши родословные древа, наши родовые списки заканчиваются 1812 годом! Деяния наших предков уничтожены унижением, в котором мы видим их внуков. Только общее восстание Германии может вновь вывести и призвать к действию благородные роды, может возвратить блеск тем, которые некогда гордились своим благородством»…
Важнее всех подобных воззваний, которые, впрочем, служили только отражением общего возбужденного настроения и общих стремлений и лишь отчасти его поддерживали, хотя и никак не вызывали, было неукоснительно подвигавшееся вперед образование новой армии, для которого так много и так скромно потрудился Шарнгорст, собственно говоря, создавший это войско. Дело созыва и устроения прусского ландвера происходило тихо и гладко, без всякого шума, с чисто протестантской (если можно так выразиться) простотой; окружные власти выбирали комитет для ведения этого дела; комитет созывал всех способных носить оружие, всех граждан от 17 до 40-летнего возраста; если требуемое число людей не покрывалось волонтерами, то прибегали к жребию. Затем все шли в церковь и новая команда приносила присягу. Религия в данном случае — в местностях преимущественно протестантских — не действовала на массы возбуждающе, не воспламеняла страсти, как это было в Испании, а только освящала совершавшееся в народе движение, вполне искреннее и по значению своему высоконравственное.
И одежда, и амуниция ландвера были чрезвычайно просты (во многих местах для него не хватало оружия, как и многого необходимого в сильно обедневшей стране): главным отличительным знаком для всех, вступивших в его ряды, был жестяной крест на форменной шапке с надписью: «С Богом за короля и отечество!» Если ландвер приходилось передвигать и пускать в дело за пределами провинции, то все служащие в нем получали жалованье наравне с линейными войсками; офицеры ландвера, вплоть до капитанского чина, избирались окружным комитетом и утверждались королем; выше капитана назначались королем. Лишь в некоторых отдельных областях, как, например, в польских провинциях, при сборе ландвера встречались кое-какие затруднения, но, вообще говоря, все ожидания по отношению к численности состава, к быстроте его сбора и т. д. были далеко превзойдены. Большим счастьем было то, что, благодаря неутомимой деятельности Шарнгорста, уже собрано было около 150 000 опытных линейных войск и совсем изготовлены к походу, так как всю амуницию для них, оружие, артиллерию успели дополнить и исправить с 1807 года. Не совсем легко было только пополнить недостаток в офицерах. Только вследствие чрезвычайного одушевления, а также и благодаря всюду преобладавшей простоте жизни и немногосложности потребностей, оказалось возможным довести до конца такие большие вооружения и снаряжения в стране и вообще небогатой, и еще более обедневшей в семь последних весьма тяжких лет. Общие цифры весьма внушительны: 5 000 000 населения выставило 271 000 ратников! Вся страна обратилась в один сплошной военный лагерь. Чрезвычайно удачным и своевременным в данном случае оказалось учреждение ордена «Железный крест» (10 марта 1813 г.) в день рождения королевы Луизы, о которой в эти торжественные и тревожные дни все вспоминали с самым горячим чувством уважения и признательности — все остальные ордена на время войны были отменены.
Цвет образованной молодежи, не только прусской, но и общенемецкой, стал стекаться в полки волонтеров, из которых один, Люцовский, еще в феврале был набран и организован майором фон Люцов. В этом полку представителем современной образованной молодежи, посвятившей себя на службу отечеству, был известный немецкий поэт Теодор Кернер, сын того Кернера, которому Шиллер столь многим был обязан в наиболее тягостные минуты жизни.

Теодор Кернер в мундире Люцовского полка.
Гравюра с портрета кисти сестры Теодора Эммы Кернер, писанного после его смерти
Русские в Берлине
Около трех месяцев ушло на все эти приготовления; за это время народное движение успело окрепнуть и прочно обосноваться. Военные силы Пруссии стали собираться около четырех главных пунктов: в Восточной Пруссии, в Силезии, в Грауденце и Кольберге. Двинулись вперед и русские: корпус Витгенштейна направился к Одеру — легкие конные разъезды их, под командой Чернышева и Теттенборна, появились даже и в ближайших окрестностях Берлина. Некоторые из казачьих отрядов в конце февраля уже стали даже заглядывать и внутрь самого Берлина, появлялись внезапно на его улицах и захватили в плен несколько французских офицеров, прямо на квартирах. 2 марта авангард Витгенштейнова корпуса перешел через Одер. Французам в Берлине давно уже стало не по себе: перед их глазами толпы молодежи с веселым шумом и воинственными кликами уходили в Силезию — всюду кругом тлел огонь, готовый вспыхнуть, и они видели грозившую опасность гораздо яснее, нежели их император, все еще ослепленный своим высокомерием. Уже 4 марта стали они выступать из Берлина по направлению к Эльбе, Виттенбергу, Дрездену, и тотчас вслед за ними вступили в город казаки, так что даже и в самых улицах города дело дошло до рукопашной схватки между казаками и французами. 11 марта явился в Берлин Витгенштейн, 17 — Йорк (конечно, вполне оправданный королем и избавленный от всякой ответственности), во главе 18 000 отборного войска: прием, оказанный населением этому войску, был самый восторженный. Казалось, что и войско это, и сама столица, и вся страна как будто переродились.
Русские в Гамбурге
Предполагают, и не без основания, что быстрое движение на запад от Эльбы могло бы увенчаться большими успехами при том настроении, какое господствовало в здешних областях, да и вообще во всей Германии до самого Рейна, и страстно стремилось проявиться в действии. Но ни русские военные силы, ни только что собиравшиеся и организуемые прусские войска не могли быть двинуты для осуществления такого плана, да и вообще мудрено было требовать смелых военных предприятий в то время, о котором идет речь, не забывая при том же, что тут действовала коалиция, а не одно государство, направляемое непреклонной волей своего повелителя. Однако один из русских офицеров, полковник Теттенборн, успел выполнить очень смелый наезд в направлении к низовьям Эльбы. В марте, с двумя конными полками, он отбыл из Берлина, 15-го был уже в Лауенбурге, первом городе на рубеже Французской империи, и направился к Гамбургу, проехав через владения герцога Мекленбург-Шверинского, первого немецкого принца, отпавшего от Рейнского союза. Гамбург был уже покинут французским гарнизоном под командой генерала Карра-де-С.-Сир. Французы спешили очистить прибрежья Южной Эльбы, чуя недоброе и видя, что все население поголовно относится к ним с озлоблением, и уже без всякого страха. Как только гарнизон удалился из Гамбурга, французский муниципалитет был там свергнут. 18 марта в город вступили русские войска; затем в Любеке, Гарбурге, Люнебурге, Штаде — последовал подобный же переворот, и эти благоприятные условия могли бы способствовать упрочению положения союзников в этой весьма важной для них местности. Но в том-то и дело, что в эту пору подобное успешное предприятие легче было привести в исполнение, нежели добиться от него плодотворных результатов, а потому и этот важный успех закончился ничем, отчасти благодаря крайней нерешительности и косности местного торгового населения, отчасти и вследствие полного равнодушия, выказанного в данном случае Англией и Швецией, а более всего — вследствие плохой организации высшей военной власти в среде союзников. Что же касается Наполеона, то он отлично знал цену этого большого центра в низовьях Эльбы. Поэтому выступившие из Гамбурга войска опять к нему вернулись. Генерал Моран с отрядом в 2500 человек, принявшийся было за экзекуцию во вновь занятом им Люнебурге, потерпел, правда, поражение при столкновении с небольшим русско-прусским отрядом; но Наполеон тотчас же выслал новые подкрепления с Везеля, под командой двух суровейших исполнителей его воли — маршала Даву и генерала Вандамма, — которые в низовьях Везера подавили террором всякие попытки к восстанию, и Даву принял меры к тому, чтобы вновь овладеть Гамбургом, который тщетно ожидал помощи откуда бы то ни было.
Наполеон после катастрофы
Итак, общего восстания в Германии не произошло: России и Пруссии приходилось выносить всю тягость войны на своих плечах. Оборонительно-наступательный союз Пруссии со Швецией (22 апреля 1813 г.) не имел почти никакого значения; если бы хоть некоторая часть германской силы не была уже сплочена в Пруссии в некоторого рода государственный организм, то удар, нанесенный могуществу Наполеона в России, не оказался бы для него гибельным. Наполеон же, между тем, успел уже наилучшим образом воспользоваться теми громадными преимуществами, какие доставляло ему его единичное положение, его властная личность и привычка к рабскому повиновению, усвоенная его народом и его союзниками. Прежде всего — и этого нельзя не похвалить в нем — он принял такое положение и придал себе такую внешность, как будто перенесенное им страшное бедствие не в силах поколебать его могущество: и он действительно решился не делать никаких уступок: «Даже и в герцогстве Варшавском, — говорил он, — не отдам ни одной деревни!» 7 января 1813 года он отправил к своему тестю в Вену ноту, в такой степени лживую и высокомерную, что даже и на того она произвела действие, противоположное ожидаемому: «Ни одна из стран, внесенных по решению сената в состав Французской империи, — так писал Наполеон, — не может быть предметом переговоров ни с Россией, ни с Англией». Только с одной стороны он выказал нечто вроде уступчивости: 20 января он вступил в Фонтенебло в переговоры со своим пленником, папой Пием VII, и от него добился согласия на примирительный акт, нечто вроде нового конкордата, по которому папа принимал от него 2 000 000 франков ежегодной пенсии и избирал Авиньон резиденцией; до лучшего времени Наполеон прикинулся как бы примирившимся с папой, хотя папа (месяц спустя после того, как конкордат был обнародован уже как государственный закон) 13 февраля 1813 года вновь отказался от своей подписи, которую, по слабости человеческой, дал слишком поспешно. И еще раз, 11 января, по решению сената, в распоряжение императора были предоставлены последние силы государства, которое было страшно истощено войной в Испании и последним погромом в России; силы эти состояли из 100 000 человек первого призыва национальной гвардии, из 100 000 непризванных на службу в период 1809–1812 годов, и из 150 000 взятых в счет конскрипции следующего 1814 года. Хвастливый и подобострастный доклад его министра внутренних дел, Монталивэ, сообщил законодательному собранию, созванному ввиду различных иных соображений, обо всех постройках и сооружениях — мостах, каналах, церквах, какие были выполнены во Франции с 1804 года, и еще раз Наполеон, в то время, когда последовало объявление войны со стороны Пруссии, воспользовался возможностью обеспечить себя таким количеством человеческой силы, какое мог отнять у прошлого и будущего: еще 80 000 человек первого призыва национальной гвардии, и еще 90 000 человек остальной конскрипции 1814 года; из Испании, откуда ему не грозила никакая непосредственная опасность, откуда и нельзя было ожидать каких-либо решительных действий, он вызвал Сульта с 30 000 войска. При этом он не упустил случая выразить свое «полное удовольствие» по поводу отношений к нему всех его союзников.
Первые действия союзников
В этом смысле, однако, «полное удовольствие» едва ли уже было уместным. Австрия держалась нейтралитета, а Дания колебалась долго[16] и наконец осталась-таки в союзе с Францией; и только своими союзниками немцами, князьями Рейнского союза, Наполеон действительно мог быть доволен. Он постоянно говорил об английских агентах, которые будто бы старались распространить в соседних странах в народе дух возмущения против государей, и таким образом коснулся струны, которая болезненно звучала в сердцах разных трусливых правителей, живших не в ладу со своей совестью; и все те воззвания, которые исходили из лагеря союзников, объявляя во всеобщее сведение о поголовном вооружении народа в Пруссии, о ландвере и ландштурме, должны были как нельзя более способствовать удержанию в союзе с Францией людей, подобных королю Фридриху Вюртембергскому. Но все же на юге и западе Германии союзники могли встретить более или менее сильные симпатии и несколько мужественных и патриотично настроенных людей, которые способны были оказать поддержку правому делу. Но прежде всего им предстояло иметь дело с Саксонией. Король Фридрих Август Саксонский, безупречный со стороны своей частной жизни, даже и понятия не имел о собственном достоинстве немецкого принца: 25 февраля 1813 года он просто бежал, захватив с собой все, что мог, из Дрездена в Плауен и предоставил всю страну в управление правительственной комиссии; не довольствуясь этим, в апреле он переселился далее — в Регенсбург и затем, наконец, на австрийскую территорию, в Прагу. Таким образом, Саксония была предоставлена в полное распоряжение союзников как военная добыча. Вице-король италийский с тех пор, как Мюрат вернулся в королевство Неаполитанское, явился во главе наполеоновых сил в Северной Германии; со всеми находившимися в его распоряжении войсками он вынужден был отступить к Эльбе, и в половине марта крайними пунктами его расположения являлись: на севере — Магдебург, на юге — Дрезден; 13 марта сюда подоспел и Даву. Он не овладел городом и, ввиду наступления более значительных сил неприятеля, приказав взорвать половину Эльбского моста, отступил к низовьям Эльбы. Русские и пруссаки, Винцингероде и Блюхер, вступили в город. Надежда на то, что вся страна тотчас же примкнет к ним, не оправдалась. Генерал Тильман, в Торгау, которого Штейн и Бойен побуждали подать всем пример сдачей крепости, не решился на этот шаг и отвечал им: «Я не генерал Йорк!» Со своей стороны и союзники, принятые населением с изъявлением радости, были слишком осторожны для того, чтобы прямо взять страну в свои руки и вынудить ее к принятию известного решения. На некоторое время они удовольствовались тем предложением нейтралитета, с которым Фридрих Август обратился к ним из Австрии, и этот нейтралитет длился как раз до тех пор, пока Наполеон, лучше союзников умевший управиться с подобными характерами, не подчинил его вновь своей власти. 24 апреля главные силы союзников, под начальством Кутузова, наконец появились на берегах Эльбы; и в тот же день Наполеон выехал из Майнца, чтобы ближе ознакомиться с положением своих противников на Эльбе. Позиция французских военных сил именно определялась течением этой реки, от ее истока и до устья; поэтому театром первых, весьма замедленных военных действий, должна была неизбежно явиться Саксония.
Битва при Люцене, 1813 г.
Когда Наполеон соединился со стоявшим на западе от Эльбы войском, то в его распоряжении было всего около 130 000 войска, в том числе было очень много рекрутов, и отчасти даже очень юного возраста.[17]
Тем временем в армии союзников произошла важная перемена: умер Кутузов и на его место заступил Витгенштейн. Несмотря на то, что союзная армия едва равнялась 90 000 чел., было принято мужественное решение сразиться немедленно, хотя и знали, что у неприятеля и артиллерия сильнее, и конницы больше. Двигаясь по направлению от Вейсенфельса к Лейпцигу, союзники вошли в соприкосновение с правым крылом неприятеля, атаковали его — и так 2 мая 1813 года к югу от дороги из Вейсенфельса в Лейпциг завязалось первое большое сражение в эту кампанию — при Люцене. Нападение произведено было в 1 час пополудни, и действительно было для Наполеона неожиданностью. Битва сосредоточилась главным образом около позиции, которую образовали четыре деревни: Кая, Рана, Гросс-Гёршен и Клейн-Гёршен; несмотря на некоторое несогласование в действиях союзников, битва велась мужественно и храбро. Около 7 часов вечера Наполеон успел собрат